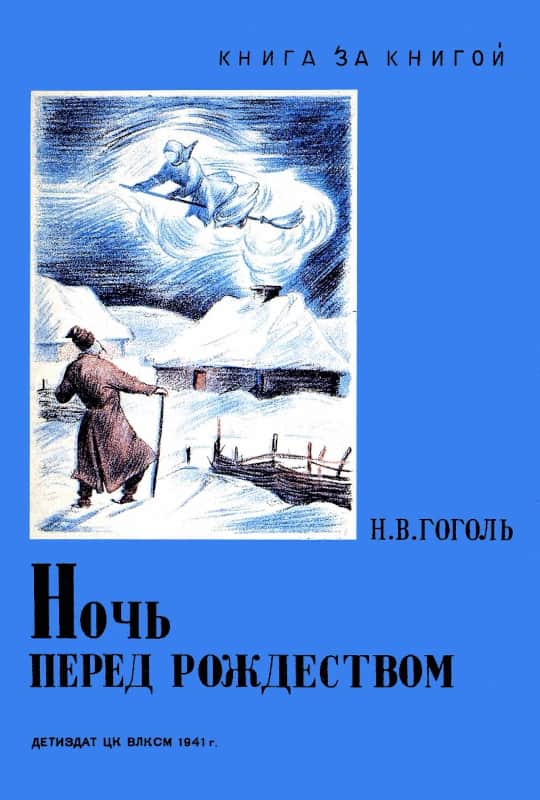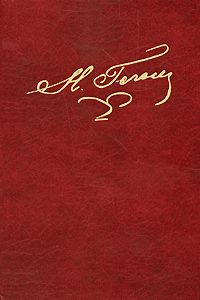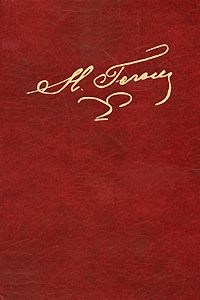Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло…
С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и… проснулся.
VI
ПРОБУЖДЕНИЕ
еужели это я спал? — сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву!..
Чудно, чудно! — повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина, от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовавши в ней записку. — Эх, если бы я знал грамоте! — подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны.
В это мгновение послышался позади его шум.
— Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? Нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не черт!.. Так кричал голова своим сопутникам, и Левко почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. — Скидавай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей! — проговорил голова, ухватив его за ворот, — и оторопел, выпучив на него глаз свой. — Левко! Сын! — вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. — Это ты, собачий сын! Вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки? А это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно чешется у тебя спина! Вязать его!
— Постой, батько! Велено тебе отдать эту записочку, — проговорил Левко.
— Не до записок, теперь голубчик! Вязать его!
— Постой, пан-голова! — сказал писарь, развернув записку. — Комиссарова рука!
— Комиссара?
— Комиссара? — повторили машинально десятские.
— Комиссара? Чудно! Еще непонятнее! — подумал про себя Левко.
— Читай, читай! — сказал голова, — что там пишет комиссар?
— Послушаем что пишет комиссар! — произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь.
Писарь откашлялся и начал читать:
«Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости»…
— Вот, ей Богу, — прервал голова, — ничего не слышу!
Писарь начал снова:
«Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду…»
— Стой, стой! Не нужно! — закричал голова, — хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!
«А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макогоненка, на казачке из вашего же села, Ганне Петрыченковой, а также починить мосты на столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хотя бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский».
— Вот что! — сказал голова, разинувши рот. — Слышите ли вы, слышите ли: за все с головы спросят, и потому слушаться! Беспрекословно слушаться! Не то, прошу извинить… А тебя, — продолжал он, оборотись к Левку, — вследствие приказания комиссара, — хотя чудно мне, как это дошло до него, — я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что висит у меня на стене возле покутя? Я поновлю ее завтра… Где ты взял эту записку?
Левко, несмотря на изумление, происшедшее от такого неожиданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка.
— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батько, что заедет на возвратном пути к нам пообедать.
— Он это говорил?
— Говорил.
— Слышите ли? — сказал голова с важною осанкою, оборотившись к своим спутникам: — комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, т. е. ко мне, на обед. О!.. Тут голова поднял палец вверх, и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. — Комиссар, слышите ли, комиссар, приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан-писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь, не правда ли?
— Еще, сколько могу припомнить, — подхватил писарь, — ни один голова не угощал комиссара обедом.
— Не всякий голова голове чета! — произнес с самодовольным видом голова. Рот его покривился и что-то в роде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гуденье отдаленного грома, зазвучало в его устах. — Как думаешь, пан-писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего… А?..
— Нужно бы, пан-голова!
— А когда же свадьбу, батько? — спросил Левко.
— Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя… завтра вас поп и обвенчает. Черт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность!
Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я… При этих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.
— Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу! — сказал Левко, и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка!» — думал он про себя. «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его: ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!» Тут он приблизился к хате: окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. «Спи, моя красавица! Приснись тебе все, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!» Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут, все уже уснуло на селе? Один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля, в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: все погрузилось в сон. Изредка только прерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.